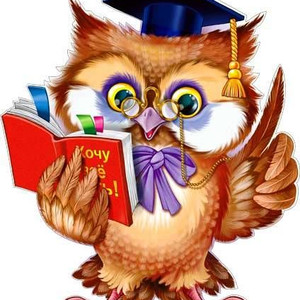гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве
Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве
УПК РФ Статья 11. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве
1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.
2. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.
3. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой настоящего Кодекса, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 141-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 30.12.2015 N 440-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом.
Ст. 11 УПК РФ. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве
Статья 11 УПК РФ. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (действующая редакция)
1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.
2. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.
3. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девятой, 186 частью второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой настоящего Кодекса, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом.
Комментарий к ст. 11 УПК РФ
См.: пункт 3 мотивировочной части Постановления КС РФ от 25 апреля 2001 г. N 6-П по делу о проверке конституционности ст. 265 УК РФ в связи с жалобой гр. А.А. Шевякова // РГ. 2001. 15 июня. N 112.
Уголовный процесс как способ защиты прав и свобод человека
Рассматривается вопрос о значении уголовного судопроизводства как способа защиты прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и иных лиц, которые были затронуты при проведении расследования или судебного разбирательства.
Ключевые слов: защита прав и свобод человека, демократия, публичность, состязательность.
Согласно ст. 1 Конституции Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Одним из системообразующих признаков правового государства является незыблемость основных прав и свобод человека, охрана законных интересов личности, о чем свидетельствует ст. 2 Конституции РФ.
Уголовное судопроизводство как функционирующая в государстве система осуществляется в соответствии с общим политическим строем государства. Исходя из этого, обозначенные в ст.6 УПК РФ в качестве задач уголовного процесса защита прав и интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод выглядят доста¬точно логично. В первую очередь это связано с тем, что в Российской Федерации за последний период времени произошло усиление демократических тенденций. Как справедливо отмечает П. А. Лупинская, «стратегия развития уголовного судопроизводства, исходя из его высокого политического значения, должна быть направлена главным образом на усиление гарантий прав личности: будь то подозреваемый (обвиняемый), потерпевший или иное лицо, чьи права и интересы затронуты при проведении расследования или судебного разбирательства» [4, с. 283]. Таким образом, законодательное закрепление задач уголовного судопроизводства в ст. 6 УПК РФ лишает нормативной почвы тезис о борьбе с преступностью как цели процессуальной регламентации функционирования уголовной юстиции и позволяет утверждать, что в России формируется процесс нового, охранительного типа [5, с. 33].
Однако на сегодняшний день далеко не все процессуалисты поддерживают концепцию, предложенную законодателем. Ряд ученых настаивает на том, что основными задачами производства по любому уголовному делу являются раскрытие преступления и изобличение лица, виновного в его совершении, а также установление истины и принятие на этой основе правильного и справедливого решения [1, с. 24]. Такой подход основан на том, что в условиях борьбы государства и уголовного мира неотвратимость уголовной репрессии приобретает важнейшее общегосударственное значение. Кроме того, посредством раскрытия каждого преступления и привлечения к ответственности лиц, их совершивших, преследуется куда более серьезная задача, направленная на предупреждение и воспитание общества в духе уважения закона. Следует отметить, что подобные задачи ставились законодателем в ст. 2 УПК РСФСР, за исключением, пожалуй, установления истины. Подобная формулировка задач породила представление о том, что интегративной целью государства в сфере уголовного судопроизводства является борьба с преступностью. Таким образом, приверженность научной юридической общественности догматам советского уголовно-процессуального права оказалась столь высока, что вопрос о том, какие ценности защищает данная отрасль права, и сегодня далеко еще не бесспорен [3, с. 16].
В теории уголовного процесса отчетливо проявилось противостояние двух тенденций. Согласно одной из них, уголовнопроцессуальное законодательство нуждается в «чистке» на предмет устранения гипертрофированного публичного интереса, в установлении законодательной властью четких оснований для любого ограничения свободы личности и требует полного воплощения конституционных ценностей в уголовнопроцессуальном законодательстве, ориентирования правоприменительной практики на всемерную охрану прав личности, даже за счет «сдачи позиций» в борьбе с преступностью. Вторая же тенденция, как уже было отмечено, заключается в том, что отвергает индивидуалистические теоретические конструкции примата прав человека над любой социальной общностью, доминирования гражданского общества над государством и требует сохранения или даже усиления публичных начал в уголовном судопроизводстве, ориентирования правоприменительной практики на борьбу с преступностью путем «ужесточения» репрессивных мер и методов [3, с. 17].
В этой связи важно понять, почему законодатель ушел от ранее существовавших задач уголовного судопроизводства, которые были закреплены в УПК РСФСР, и почему он придал нормативное значение тем, которые направлены на защиту прав и свобод личности (ст. 6 УПК РФ).
И наконец, третьей причиной, вызвавшей необходимость смены задач уголовного судопроизводства, является провозглашение состязательности судопроизводства (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). Уголовный процесс, основанный на подобных началах, имеет совершенно иной подход к определению статуса участников уголовного судопроизводства, нежели инквизиционный. Состязательность направлена на обеспечение равноправия сторон, а также на защиту человека от произвола правоохранительных органов [6, с. 46].
Список использованной литературы
1. Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006.
2. Лазарева В. А. Уголовный процесс как способ защиты прав и свобод человека и гражданина (назначение уголовного судопроизводства) // LEX RUSSICA. 2010. № 3.
3. Лазарева В. А., Иванов В. В., Утарбаев А. К. Защита прав личности в уголовном процессе России: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016.
4. Лупинская П. А. Высокое политическое значение уголовного судопроизводства // LEX RUSSICA. 2008. № 2.
5. Михайловская И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовно-процессуальная форма). М., 2003.
6. Одинцов А. С. Значение принципов уголовного судопроизводства для обеспечения прав и свобод человека // Научный поиск. 2016. № 2.1.
7. Ожегов С. И., Шведова Г. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М., 1999.
Гарантии прав личности в уголовном процессе
Мельников В.Ю., федеральный судья Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону, кандидат юридических наук.
Под процессуальными гарантиями участников уголовного судопроизводства следует понимать предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок вовлечения гражданина в уголовный процесс в указанном качестве, совокупность его прав на защиту на стадии предварительного расследования. Это органическая целостность процессуальных средств и способов, взаимодействующих между собой при обеспечении прав и законных интересов участников уголовного процесса в целях установления истины по уголовному делу.
В системе процессуальных гарантий выделяются гарантии субъективных прав личности и гарантии публичного интереса, направленные на обеспечение правопорядка. Эти гарантии тесно взаимодействуют, однако их отождествление недопустимо, ибо ведет к размыванию целей уголовного судопроизводства, снижению эффективности борьбы с преступностью. Система процессуальных гарантий личности не только предоставляет возможности для реализации прав и законных интересов. Она одновременно ограждает его личность от произвола органов расследования, так как именно гарантии устанавливают границы и правовые условия возможных действий должностных лиц.
Гарантии прав личности особенно необходимы как средства, предоставляющие возможность исключить или, по крайней мере, свести до минимума судебные ошибки в отношении гражданина. Помимо этого именно гарантии прав и законных интересов личности служат средством обеспечения возможности фактического использования подозреваемым и обвиняемым предоставленных ему прав, придавая им реальный характер.
Процессуальными гарантиями прав подозреваемого и обвиняемого выступают те процессуальные нормы, которые закрепляют субъективные права обвиняемого, корреспондирующие им процессуальные права, обязанности должностных лиц, органов, ведущих судопроизводство, их процессуальная деятельность и процессуальная деятельность защитника, в ходе осуществления которой они получают свою реализацию.
Основное назначение системы гарантий прав и законных интересов личности выражается в том, что в уголовном судопроизводстве они, во-первых, выступают средством, позволяющим свести до минимума судебные ошибки в отношении указанных участников уголовного судопроизводства, тем самым реализовать требования ст. 6 УПК РФ. Кроме того, это средство обеспечения возможности фактического использования предоставленных им прав и придания им реального характера.
Аналогичное понятие законности закрепили УПК Казахской Республики (ч. 1 ст. 6) и УПК Республики Украина (ч. 1 ст. 11). УПК РК (ч. 1 ст. 10) и УПК Республики Беларусь (ч. 1 ст. 8) такую обязанность закрепили только за судом и органами уголовного преследования.
К сожалению, нынешнее уголовно-процессуальное законодательство больше не ставит перед судом задачу выявления истины. Можно отметить, что многие правила, в том числе имеющие принципиальное значение, предусмотренные УПК РФ, могут служить установлению истины по уголовному делу. В их числе, например, столь важные, как наделение сторон в судебном разбирательстве равными правами (ст. 244); решение о допустимых видах источников доказательств (ч. 2 ст. 74); правила о недопустимости доказательств (ч. 1 ст. 75); требование проверки доказательств (ст. 87); принцип свободной оценки доказательств (ст. 17); требование мотивированности приговора (обвинительного и оправдательного, ст. ст. 305, 307); институт отводов (гл. 9 УПК РФ) и др.
Наряду с этим УПК РФ не содержит ряда необходимых для установления истины правил; вводит такие правила, действующие в досудебных и судебных стадиях процесса, которые не служат обеспечению установления истины по уголовному делу.
УПК РФ также не выделяет отдельной статьей такой принцип, ранее предусмотренный УПК РСФСР (ст. 21), как выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений. В то же время часть 2 ст. 73 УПК РФ говорит о том, что «подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», а согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ дознаватель, следователь, установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона.
Этот принцип способствует снижению количества судебных и следственных ошибок, влекущих за собой нарушения прав личности. Известно, что при неправильно решенном вопросе о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения, осуждении лица и т.п. любое ограничение прав личности будет не соответствовать требованиям как законности, так и обоснованности.
Необходимость установления по делу обстоятельств, подлежащих доказыванию, безусловно, побуждает следователя (дознавателя) к всестороннему и полному расследованию преступлений, однако еще не гарантирует его осуществления, поскольку зависит от правосознания правоприменителя. Сложившаяся ситуация в известном смысле провоцирует обвинительный уклон, потенциально чревата определенной деформацией правосознания следователей и прокуроров, может повлечь несоблюдение прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых. Вместе с тем отмеченные обстоятельства не могут служить оправданием несоблюдения в процессе расследования прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, поскольку на их охрану направлены конституционные положения и предписания уголовно-процессуального закона.
Практика показывает, что в российском обществе отдельно взятый человек слабо защищен от всевластия государственных органов и должностных лиц, в сознании большинства должностных лиц в основном преобладает принцип господства государственных общественных интересов перед личными. Нередко это является если не прикрытием собственных интересов, то разновидностью злоупотреблений властью, особенно в процессе производства по уголовному делу в связи с совершенным или предполагаемым преступлением.
Следовательно, в обеспечении прав и законных интересов личности с принципом публичности уголовного процесса должен тесно взаимодействовать принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. Он направлен на установление истины по делу. Без этого невозможно решить задачи, стоящие перед уголовным судопроизводством, достижение объективной истины является одновременно целью уголовного процесса.
Важным необходимо считать не установление обстоятельств совершения преступления, т.е. результат уголовно-процессуальной деятельности, а способ ее осуществления. Смена целей уголовного судопроизводства лишает его необходимой объективной основы и ведет к подмене необходимого обществу средства борьбы с преступностью неким формальным его прообразом. Состязательность процесса не лишает суд права и обязанности давать ответ, соответствующий объективной действительности или материальной истине, и отнюдь не требует, чтобы он довольствовался истиной формальной, как ее понимают и устанавливают стороны. По мнению автора, состязательность в уголовном процессе можно и должно понимать именно как условие и способ достижения истины по каждому уголовному делу. Сохранение объективной истины в основе уголовного судопроизводства не может исключать создание таких форм, в которых действие этого принципа не предусматривается (упрощенный порядок рассмотрения отдельных категорий дел, исключающий собирание, исследование доказательств и т.д.).
Принцип презумпции невиновности должен быть незыблем в отношении лица в рамках принятия решения по существу вменяемого ему преступления. В отношении вещных прав в рамках гражданских процедур (в первую очередь налогового законодательства) должен действовать другой принцип доказывания. Если есть обоснованные подозрения, ответчик должен сам доказать законность происхождения своего имущества и источники доходов.
См.: Допрос прокурора // Российская газета. 2007. 20 апреля.
Сравнительно недавно был восстановлен институт конфискации имущества. В других странах мира эта норма активно применяется для борьбы с коррупцией. Есть основание ускорить принятие давно нужного закона о противодействии коррупции в нашей стране, что в немалой степени будет способствовать консолидации общества и формированию чувства равенства и справедливости. Средства, конфискованные у террористов и их пособников, у организованных преступных сообществ, в сфере незаконного оборота наркотиков, после возмещения ущерба, причиненного законному владельцу (ст. 104.3 УК РФ), целесообразно, помимо обращения в доход государства, обращать на помощь потерпевшим гражданам, пострадавшим от противозаконных действий.
К сожалению, УПК РФ также не предусмотрел соответствующей правовой нормы об осуществлении правосудия на началах равенства всех граждан перед законом и судом. Сущность этого принципа состоит в том, что при рассмотрении уголовных дел в суде закон устанавливает один и тот же процессуальный порядок в отношении всех граждан, независимо от их происхождения, социального, должностного и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Международное право, а также конституционное и уголовно-процессуальное право России предусматривают значительные изъятия из данного общего права. Проведенное автором исследование норм правовых институтов об иммунитетах и привилегиях показало, что особыми преимуществами и льготами в этой области наделены 187 категорий российских и иностранных граждан в связи с выполнением ими специфических функций в межгосударственных, государственных и общественных отношениях.
Значение существования определенных привилегий в уголовном процессе велико и обусловливается прежде всего обеспечением возможности выполнять указанными лицами надлежащим образом свои обязанности. Ввиду особого назначения иммунитетов в уголовном процессе они представляют собой дополнительные процессуальные гарантии законности и обоснованности вовлечения указанных граждан в сферу уголовного судопроизводства и применения к ним мер процессуального принуждения, связанного со значительными правоограничениями. Однако предоставление иммунитета большому кругу лиц, по мнению автора, вряд ли является оправданным.
Целевое назначение системы гарантий прав подозреваемых и обвиняемых видится в том, что каждое последующее звено указанной системы должно срабатывать в качестве правообеспечительного фактора, если перед этим было допущено нарушение закона.
Глава 4. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве и в уголовно-исполнительной системе
Глава 4.
Защита прав человека в уголовном судопроизводстве и в уголовно-исполнительной системе
4.1. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве
В данную сферу в качестве различных участников уголовного процесса вовлечено огромное количество людей с разными интересами. И уголовное судопроизводство должно обеспечить как защиту прав лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Достаточно сказать, что правоохранительными органами в 2017 году зарегистрировано 2 058 476 преступлений, по 1 117 801 уголовному делу производство окончено, судами рассмотрено 914 885 уголовных дел.
Жалобы в адрес Уполномоченного по поводу защиты прав человека в уголовном судопроизводстве составляют почти треть всех обращений граждан. В 2017 году их поступило
12 779. Такие масштабы объяснимы как высоким уровнем конфликтности данной сферы, так и тем, что Уполномоченный является одним из немногих государственных органов, по ходатайству которого могут проверяться материалы по постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела и пересматриваться вступившие в силу приговоры.
В сравнении с прошлым годом в динамике и структуре обращений произошли некоторые изменения. Возросло количество обращений граждан по вопросам, связанным с нарушением их прав при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлении (+17,6%), с нарушением права на защиту (+11%), с обоснованностью привлечения к уголовной ответственности (+11,8%), с арестами и сроками содержания под стражей (+4,6%).
Большинство поступивших к Уполномоченному жалоб на нарушения, допущенные в отношении участников уголовного судопроизводства, касаются обоснованности и справедливости приговоров и иных судебных решений. В них граждане указывают на неверную квалификацию деяния, чрезмерную суровость наказания без учета смягчающих и отягчающих обстоятельств, нарушение права на защиту, а также на вынесение, по их мнению, неправосудных решений. Доводы заявителей тщательно изучаются Уполномоченным и сотрудниками Аппарата, по жалобам проводятся соответствующие проверки. В случае выявления нарушений при расследовании уголовных дел и вынесении приговоров Уполномоченный использует свое право на обращение в кассационные инстанции с ходатайством о пересмотре вступивших в силу приговоров.
Так, к Уполномоченному обратились граждане С. и М. с жалобой на нарушение норм УПК РФ при вынесении в отношении них приговоров. На протяжении нескольких лет они пытались восстановить свое право на защиту, однако им было неоднократно в этом отказано вышестоящими судами. Изучив жалобы заявителей С. и М., а также процессуальные документы, Уполномоченный установил, что рассмотрение кассационных жалоб состоялось без участия защитника, предоставление судом которого являлось обязательным, и направил ходатайства Председателю Верховного Суда Российской Федерации, которые впоследствии были удовлетворены, материалы дела переданы на рассмотрение президиумов судов субъектов Российской Федерации, где было принято решение об отмене кассационных определений и направлении дела на новое апелляционное рассмотрение с обеспечением осужденным права на защиту.
Затронутая в примере проблема права на защиту подсудимых не является системной. Вместе с тем Уполномоченный акцентирует внимание судов и правоохранительных органов на важность гарантирования этого конституционного права на других стадиях уголовного судопроизводства. На это обстоятельство еще в 2007 году обратил внимание Конституционный Суд Российской Федерации. В своем определении от 8 февраля 2007 г. N 251-О-П он постановил, что Конституция Российской Федерации определяет начальный, но не конечный момент осуществления обвиняемым права на помощь адвоката (защитника), поэтому оно должно обеспечиваться на всех стадиях уголовного процесса.
Нередко судом при вынесении приговора и назначении наказания осужденному не учитываются смягчающие обстоятельства.
Большой общественный резонанс вызвал приговор, вынесенный инвалиду первой группы М., страдающему заболеванием, включенным в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. М., осужденный к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, был взят под стражу в зале суда и некоторое время, до проведения медицинского освидетельствования, содержался в СИЗО, где отсутствовали условия для обеспечения за подсудимым надлежащего ухода. При содействии Уполномоченного, ходатайствовавшего перед Московским городским судом об изменении меры пресечения до рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке, осужденный был переведен в медицинское учреждение, где получил необходимую медицинскую помощь. Мера пресечения в виде заключения под стражу была заменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В августе 2017 г. по результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции суд, учитывая смягчающие обстоятельства, в частности, состояние здоровья подсудимого, изменил приговор, назначив М. наказание ниже низшего предела в виде штрафа.
Вызывает обеспокоенность проблема незначительного количества оправдательных приговоров. В 2017 году обвинительные приговоры постановлены по 99,6% рассматриваемых уголовных дел, и только 0,4% приговоров стали оправдательными. По сравнению с предыдущими годами их количество даже уменьшилось (на 38,45% по сравнению с 2015 годом и на 18,44% по сравнению с 2016 годом).
Как и в прошлые годы, Уполномоченному поступает множество жалоб, касающихся вопросов объективности, полноты и сроков предварительного расследования. Заявители указывают на допускаемые дознавателями и следователями субъективизм, предвзятость или односторонность при расследовании уголовного дела, неполноту выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию, чрезмерно длительные сроки предварительного расследования.
В обращении Г. сообщалось, что в начале 2013 г. у нее пропал 20-летний сын, который выехал из Республики Татарстан в г. Москву. По факту исчезновения сына Г. правоохранительными органами Республики Татарстан было заведено разыскное дело, которое впоследствии было прекращено в связи с обнаружением в г. Москве трупа мужчины с документами на имя сына Г. Следственными органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. При этом родственников не оповестили о случившемся, труп был захоронен на подмосковном кладбище как невостребованный. Попытки матери установить, ее ли сын был похоронен, не привели к результатам. В защиту прав Г. Уполномоченным было направлено обращение в следственные органы о проведении проверки по данному факту, в результате чего в рамках проверочных мероприятий проведена эксгумация, взяты анализы у предполагаемых родственников погибшего, проведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, в ходе которой установлено родство погибшего с Г. Но на такое заключение понадобилось более 4 лет мытарств матери.
Нередко следователи и дознаватели отказывают в предоставлении обвиняемым, длительное время содержащимся под стражей, свиданий с близкими родственниками, не дают разрешения на телефонные переговоры с ними, как правило, ссылаясь на тайну следствия. Испытывая в связи с этим огромные нравственные страдания, обвиняемые иногда бывают готовы к самооговору, а то и к суициду.
Об этом во время личных приемов Уполномоченного с обвиняемыми, содержащимися в СИЗО, сообщили М., которому в течение 8 месяцев не давали права на телефонный разговор с дочерью, несмотря на то, что следствие в отношении него закончилось; и Л., которому более года отказывали во встрече с престарелой матерью, ссылаясь на то, что она может во время свидания говорить с ним на иврите, и другие. Большинство заключенных, обратившихся к Уполномоченному с этим вопросом, обвинялись в ненасильственных преступлениях, главным образом экономической направленности. По всем заявлениям Уполномоченный обращался в вышестоящие следственные органы или в прокуратуру, но только в половине случаев ими было принято положительное решение.
Подобная практика противоречит нормам нравственности, уголовно-процессуального законодательства и международного права. Анализ поступающих жалоб на решения об отказе следователей и дознавателей в предоставлении свиданий обвиняемого с близкими родственниками, а также отсутствие в законе критериев, которыми должны руководствоваться должностные лица органов следствия и дознания в таких ситуациях, дают основания полагать, что применению недозволенных методов, направленных на получение признательных показаний любой ценой, не дается в настоящее время принципиальной оценки со стороны руководства подразделений органов следствия и дознания. Указанные пробелы могут быть устранены путем законодательного установления четких критериев отказа следователями (дознавателями) в предоставлении свидания обвиняемым по уголовным делам с родственниками и иными лицами.
Тревожным является рост в 2017 году количества обращений граждан по вопросу обоснованности привлечения к уголовной ответственности. Дознаватели и следователи иногда не проводят необходимые следственные действия, не приобщают к делу то или иное доказательство, представляемое стороной защиты, которое способствовало бы снятию с подозреваемого или обвиняемого подозрений и обвинений. Как следствие, лицо необоснованно привлекается к уголовной ответственности.
В Докладе о деятельности Уполномоченного за 2016 год упоминалось о деле К., которому было инкриминировано убийство своей жены и дочери, несмотря на то, что все собранные доказательства свидетельствовали о совершении преступления другим лицом. При этом следователи решили до установления истинного преступника не снимать обвинения с К. Уполномоченным неоднократно направлялись обращения в органы прокуратуры с просьбой принять меры реагирования, органами прокуратуры 7 раз вносились требования об устранении нарушений закона, однако следственными органами они не исполнялись. Лишь в сентябре 2017 г. следователем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве было принято решение о прекращении уголовного преследования в отношении К. К тому времени К. 10 месяцев провел в СИЗО и 8 месяцев под домашним арестом.
Следует отметить, что в настоящее время в правоприменительной практике встречаются случаи отказа в приобщении к уголовному делу документов, имеющих существенное значение для установления истины по делу, и использования доказательств, полученных с нарушениями норм закона.
Так, обратившийся за защитой прав к Уполномоченному М., обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в общей сложности находился под стражей почти 22 месяца. Видеозапись, произведенная сотрудниками правоохранительных органов при задержании М., легла в основу его обвинения в тяжком преступлении. При этом видеозапись, сделанная случайным свидетелем, не бралась во внимание органами следствия в ходе предварительного расследования. Однако во время судебного заседания она все-таки была просмотрена, после чего уголовное дело было возвращено судом прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ. На протяжении более двух лет Уполномоченный настойчиво добивался принятия законного и обоснованного решения по данному случаю длящегося нарушения прав М., и наконец справедливость восторжествовала: уголовное преследование М. 27 декабря 2017 г. прекращено.
Указанная ситуация заслуживает самого пристального внимания должностных лиц органов прокуратуры, а также федерального законодателя.
В этой связи Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что ряд его предложений по усилению гарантий государственной защиты прав обвиняемых нашел отражение в принятом Федеральном законе от 17 апреля 2017 г. N 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Названным законом расширены полномочия адвокатов в уголовном процессе, что позволяет повысить конституционные гарантии прав граждан на защиту от обвинения и на квалифицированную юридическую помощь, а также процессуальные гарантии независимости адвоката. Законом также запрещено отказывать участникам уголовного процесса (подозреваемым, обвиняемым и адвокатам) в удовлетворении ходатайств не только о производстве следственных действий, но и о приобщении к материалам уголовного дела доказательств, если обстоятельства, об установлении которых ходатайствуют указанные лица, имеют значение для уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами. Однако следственными органами не всегда выполняются указанные требования закона.
К Уполномоченному обратился Р. с жалобой на незаконное уголовное преследование и нарушение его прав со стороны следственных органов. Р. инкриминировалось совершение хищения денежных средств граждан путем обмана на общую сумму 6 041 300 руб. Однако в банковской документации о движении денежных средств подписи Р. нигде не значилось. Неоднократные ходатайства о проведении экспертизы, имеющей существенное значение по делу, следователем отклонялись. В защиту прав Р. Уполномоченным было направлено обращение прокурору Северо-Западного административного округа г. Москвы, в результате чего заместителем надзирающего прокурора вынесено постановление о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования с указаниями о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, а также проведении иных следственных и процессуальных действий.
Отмечается, что из года в год одинаково велико количество поступающих от заявителей жалоб на необоснованное избрание и продление меры пресечения в виде заключения под стражу. Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивали, что заключение под стражу в качестве меры пресечения, а равно применение иных принудительных мер, ограничивающих право лица на свободу, может быть оправдано публичными интересами, если оно отвечает требованиям справедливости, является пропорциональной, соразмерной и необходимой для целей защиты конституционно значимых ценностей мерой.
К Уполномоченному обратилась Я., инвалид 2 группы, обвиняемая по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ в похищении своей дочери в связи с ее помещением в медицинское учреждение для лечения от наркологической зависимости. В отношении Я. Хамовническим районным судом города Москвы была избрана и неоднократно продлевалась (7 раз) мера пресечения в виде заключения под стражу. Уполномоченный обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой провести проверку в части достаточности оснований для применения в отношении Я. столь суровой меры пресечения и обоснованности предъявленного Я. обвинения. Прокурор, участвующий в судебном заседании Московского городского суда, поддержал доводы Уполномоченного. Мера пресечения Я. судом была изменена на не связанную с лишением свободы.
Руководство страны, а также Верховный Суд Российской Федерации неоднократно обращали внимание на то, что меры пресечения в виде заключения под стражу могут применяться только в том случае, когда другие виды мер пресечения (домашний арест, залог, поручительство) не могут обеспечить сбор доказательств и когда имеются подтверждения обстоятельств, перечисленные в части 1 статьи 108 УПК РФ, дающие право судье вынести решение о заключении человека под стражу. Однако ситуация почти не меняется. Статистика свидетельствует, что ходатайства органов следствия и дознания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворяются судами в 90% случаев. Но положительные сдвиги наметились по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Суды в 2017 году более чем в половине случаев (55%) отказали следователям и дознавателям в применении заключения под стражу в качестве меры пресечения.
Проблема сроков содержания под стражей взаимосвязана с проблемой разумности сроков уголовного судопроизводства, нарушение которого вызывает обоснованные жалобы граждан в ЕСПЧ. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года каждый задержанный или заключенный под стражу имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Часть 1 статьи 6.1 УПК РФ также закрепила, что уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.
В силу фундаментального характера права на свободу, которая является естественным состоянием для человека, органы предварительного расследования и суды должны исходить из так называемой «презумпции свободы».
Еще в 2002 году ЕСПЧ впервые установил нарушение Российской Федерацией права на судебное разбирательство в течение разумного срока после задержания, гарантированного частью 3 статьи 5 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. С тех пор аналогичные нарушения были установлены при рассмотрении дел по жалобам против Российской Федерации в более чем ста случаях.
Уполномоченный на протяжении нескольких лет выступает за законодательное ограничение сроков содержания под стражей, в том числе на стадии рассмотрения дела судом. К сожалению, в настоящее время таких ограничений не установлено, и эти сроки исчисляются порой годами.
Длительное содержание под стражей в ходе судебного производства при вынесении приговора с назначением наказания «по фактически отбытому» ведет к нарушению разумного срока уголовного судопроизводства и невозможности своевременного использования такими гражданами права на условно-досрочное освобождение от наказания, что является грубейшим нарушением прав человека. Установление предельных сроков содержания под стражей на стадии судебного производства помимо прочего позволит разгрузить следственные изоляторы, приведет к минимизации негативных последствий от длительного содержания под стражей для здоровья обвиняемых, которые за время нахождения в заключении подвергаются риску приобретения хронических заболеваний.
Положительной оценки заслуживает в этой связи принятый Верховным Судом Российской Федерации 18 января 2017 г. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей, в котором всем субъектам уголовного процесса, участвующим в принятии решений по применению меры пресечения в виде содержания под стражей, даны разъяснения и рекомендации.
Еще один вопрос, связанный с повышением эффективности уголовного судопроизводства, лежит в плоскости организации надлежащего процессуального контроля и надзора при осуществлении предварительного расследования. По мнению Уполномоченного, законодательное сужение полномочий прокурора в части отсутствия у него права на возбуждение уголовного дела и необязательности исполнения следователями его требований об устранении нарушений закона порождает на практике существенные проблемы.
4.2. Защита прав потерпевших
Обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений является важнейшей задачей, отвечающей основному назначению уголовного судопроизводства, целям восстановления социальной справедливости и верховенства закона.
В защиту прав потерпевших в 2017 году к Уполномоченному поступило 3085 обращений, что на 7% больше, чем в 2016 году.
Еще несколько лет назад одной из наиболее острых проблем в деятельности правоохранительных органов было укрытие преступлений от учета и регистрации. Уполномоченный неоднократно поднимал ее и вносил предложения по разрешению ситуации, и сегодня с удовлетворением отмечает, что в результате предпринятых государственными органами мер ситуация значительно улучшилась. Тем не менее нельзя сказать, что указанная проблема решилась в полной мере. В поступающих к Уполномоченному жалобах указывается на факты использования недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов различных форм укрытия преступлений от учета и регистрации и нежелании проводить установленную процессуальным законом проверку сообщений о преступлениях. Встречаются случаи отказов в регистрации заявлений, как якобы не содержащих информации о преступлении, либо необоснованной пересылки таких сообщений по подследственности или территориальности.
Заявители часто не получают от правоохранительных органов уведомления о принятых по заявлениям процессуальных решениях и копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что они должны направляться заявителям в течение 24 часов с момента принятия соответствующего решения.
М. обратилась в следственные органы Воронежской области с заявлением по факту гибели ее сына. В результате проведенной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем заявительница в установленный срок уведомлена не была. Уполномоченный попросил прокурора Воронежской области провести проверку, в результате которой постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Также заместителем прокурора области в связи с выявленными нарушениями УПК РФ руководителю СУ СК России по Воронежской области внесено требование об устранении нарушений закона и привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.
Вопросы соблюдения органами следствия и дознания сроков рассмотрения заявления о преступлении и вынесения законного процессуального решения являются предметом прокурорского надзора. Согласно части 4 статьи 148 УПК РФ установлено, что копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела должна быть направлена в адрес прокурора в течение 24 часов с момента вынесения данного постановления. Однако в рассматриваемой норме не предусмотрена подобная обязанность относительно предоставления в этот же срок материалов проверки по сообщению о преступлении, на основании которых принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В результате прокурор начинает проверку законности принятого решения не в течение 24 часов с момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а, как правило, после получения жалобы от потерпевшего. Такая практика препятствует своевременному обжалованию лицами, пострадавшими от преступлений, незаконных решений и действий (бездействия) должностных лиц органов предварительного расследования.
К Уполномоченному поступила жалоба П. на бездействие ОМВД России по Крымскому району Краснодарского края при рассмотрении его заявления о причинении ему неизвестным лицом тяжкого вреда здоровью и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. При этом надзирающим прокурором материалы процессуальной проверки были рассмотрены лишь после поступления к нему жалобы заявителя. После обращения Уполномоченного в прокуратуру Краснодарского края постановление дознавателя указанного ОМВД об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, а по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ.
Исходя из изложенного, в целях повышения гарантий реализации прав потерпевших на стадии рассмотрения сообщений о преступлениях, предлагается уточнить порядок, а главное, сроки проверки законности вынесенного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором.
Особую тревогу вызывает рост по сравнению с 2016 годом числа жалоб на волокиту, формализм и необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. Как указывают заявители, распространена практика «бездействия» дознавателей и следователей после отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, когда дополнительные проверочные мероприятия не проводятся, а вновь вынесенные постановления фактически дублируют предыдущее.
К Уполномоченному обратился Б. с жалобой на бездействие следственных органов по его заявлению о совершенном преступлении. Заявитель указал, что в результате неоказания надлежащих медицинских услуг его недееспособному сыну-инвалиду во время лечения в ГКБ N 31 ДЗ г. Москвы последний скончался. По указанному факту заявитель обращался в Никулинский межрайонный следственный отдел, однако по результатам процессуальных проверок следователем 5 раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые после отмены надзирающим прокурором и проведения дополнительной проверки дублировали друг друга. После обращения Уполномоченного Никулинской межрайонной прокуратурой города Москвы очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено как незаконное, а по результатам дополнительной проверки по факту смерти Б. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Длительное проведение следователями и дознавателями доследственных проверок, формальность проверочных мероприятий, принятие необоснованных процессуальных решений приводят к утрате собранных доказательств, имеющих важное значение для установления всех обстоятельств совершения преступления, невозможности раскрытия преступлений «по горячим следам» и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, а также возмещению вреда, причиненного потерпевшим, что грубо нарушает их права. И в первую очередь право на доступ к правосудию.
Из года в год не уменьшается количество обращений на ненадлежащее расследование уголовных дел, их незаконное приостановление или прекращение. Они составляют примерно четверть всех заявлений потерпевших. Граждане, в частности, жалуются, что по возбужденным, но заведомо неперспективным с точки зрения раскрываемости уголовным делам нередко органами следствия и дознания выносятся незаконные постановления о приостановлении производства по делу.
Из поступившей жалобы жительницы г. Омска Б., инвалида 2 группы, стало известно, что следственными органами длительное время не расследуется уголовное дело по факту завладения мошенническим путем принадлежащей ей квартиры. В августе 2014 г. расследование было приостановлено, и около 3 лет каких-либо действий по установлению виновных в преступлении лиц не предпринималось. Лишь после обращения Уполномоченного в прокуратуру Омской области необоснованное постановление следователя было отменено, расследование уголовного дела возобновлено. В связи с допущенной в ходе следствия волокитой прокуратурой г. Омска руководителю органа предварительного следствия внесено представление об устранении нарушений закона, а дальнейшее расследование дела взято под личный контроль.
Особого внимания заслуживают вопросы соблюдения прав граждан при признании их потерпевшими по уголовному делу. Согласно части 1 статьи 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим должно приниматься незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляться постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. При этом правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения, и лишь процессуально оформляется постановлением, но не формируется им. Однако проблема заключается в том, что в нарушение законодательства следователи (дознаватели) порой не выносят постановление о признании лица потерпевшим, что лишает его возможности реализовать права, предусмотренные частью 2 статьи 42 УПК РФ.
Актуальной остается проблема возмещения потерпевшему материального вреда, причиненного преступлением, что подтверждается возросшим количеством обращений в адрес Уполномоченного по данному вопросу.
По данным Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, за 2017 год ущерб от преступлений (только по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 408,5 млрд руб.
В определенной мере исправить ситуацию можно за счет возложения на следователя (дознавателя) обязанности принимать меры по обеспечению возмещения причиненного имущественного ущерба не только по тем уголовным делам, по которым преступлением был причинен прямой имущественный вред, но и по всем другим уголовным делам, по которым необходимо обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий. Например, по делам о причинении вреда здоровью. Пока же принятие обеспечительных мер по таким делам относится к усмотрению лица, производящего уголовное преследование. Здесь нужно учитывать и то обстоятельство, что подача гражданского иска требует длительного времени, в том числе по причине проведения судебно-медицинских экспертиз, и большой подготовительной работы, связанной с расчетом размера денежной компенсации за причиненный ущерб. Но если следствием в максимально короткий срок не были предприняты меры по розыску и наложению ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого), то к моменту подачи гражданского иска как в уголовном, так и в гражданском процессе подозреваемый (обвиняемый) может распорядиться таким имуществом либо самостоятельно, либо с помощью доверенных лиц, что в конечном счете значительно затруднит взыскание потерпевшим ущерба за причинение вреда его здоровью.
Представляется, что в целях более эффективного восстановления социальной справедливости в части возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшему, и расходования денежных средств должны быть законодательно закреплены условия, виды и размеры государственной компенсации. При этом выплата компенсации не будет отменять обязанности возмещения вреда обвиняемым. В этой связи можно вернуться к идее учреждения внебюджетного Федерального фонда помощи потерпевшим, деятельность которого могла бы регулироваться специальным законом.
4.3. Защита прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы
На рассмотрении Правительства Российской Федерации находится проект федеральной целевой программы УИС на период до 2025 года, которой предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция 366 объектов. В прошлом году отремонтировано 986 объектов. Планомерно осуществляется работа по созданию к 2019 году системы исправительных центров. К началу 2018 года создано 8 исправительных центров и 15 изолированных участков, функционирующих как исправительные центры при исправительных учреждениях.
Осуществлен комплекс мер по совершенствованию организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, по повышению эффективности диагностики и лечения таких социально значимых заболеваний, как ВИЧ и туберкулез. Как следствие, заболеваемость туберкулезом ВИЧ-инфицированных лиц снизилась на 17,6%, а смертность от туберкулеза, в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией, уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 36,9%. Общий показатель смертности от заболеваний в расчете на 100 тыс. человек сократился на 6,1%.
Участие Уполномоченного в решении проблемы реализации осужденными, не имеющими необходимых финансовых средств, права на обращение в надзорные и контролирующие органы получило свое логическое завершение. В январе 2017 года вступили в силу Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, предоставившие возможность осужденным, не имеющим денежных средств, направлять соответствующие жалобы за счет администрации учреждения, что и предлагалось Уполномоченным.
Наибольшее количество обращений поступило от лиц, находящихся в учреждениях, расположенных в Оренбургской (644), Саратовской (174) и Свердловской областях (152), городе Москве (247), Красноярском крае (153) и Республике Коми (144).
В основном заявители жалуются на ненадлежащие бытовые условия содержания, неудовлетворительное медицинское обеспечение, отказы администрации в переводе в другие исправительные колонии, препятствия при досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания, неправомерное применение персоналом физической силы и специальных средств и другие недостатки их содержания.
По результатам рассмотрения жалоб оказано содействие в защите прав 9,5 тыс. лиц. К дисциплинарной ответственности за различные нарушения привлечено 6302 сотрудника УИС, возбуждены уголовные дела в отношении 77 сотрудников.
Значительная часть обращений связана с нарушением порядка и условий содержания в учреждениях УИС. Заявители жаловались на ненадлежащее состояние помещений мест принудительного содержания, в том числе связанное с необходимостью проведения в них капитального ремонта, качество пищи, несоблюдение минимальной санитарной площади помещений, плачевное состояние или отсутствие инвентаря и спальных принадлежностей, обращались и по иным бытовым вопросам.
Особую актуальность в числе обращений по данной категории дел имеют жалобы на несоблюдение санитарной площади камер следственных изоляторов. В настоящее время подавляющее большинство следственных изоляторов имеют так называемый «перелимит», то есть превышение числа содержащихся в них граждан относительно расчетного количества мест в изоляторах. Одним из наглядных показателей этой ситуации выступает судебная практика ЕСПЧ, сформированная с учетом пилотного постановления по делу Ананьева и установившая ряд нарушений в указанной сфере. В 2017 году в рамках данной процедуры вынесено несколько постановлений, повлекших определенные финансовые и имиджевые потери нашей страны.
Так, постановлением ЕСПЧ от 8 июня 2017 г. по делу Волковой против Российской Федерации в пользу истца присуждены денежные средства в размере 10 000 евро в связи с бесчеловечными условиями ее содержания в следственном изоляторе г. Новокузнецка и исправительных колониях, расположенных в г. Нижний Тагил и г. Екатеринбург.
По мнению Уполномоченного, Правительство Российской Федерации должно принять дополнительные меры по улучшению условий содержания граждан в следственных изоляторах УИС с учетом международных стандартов, в том числе по улучшению условий их размещения, питания, вещевого и медицинского обеспечения.
Кроме того, Уполномоченный полагает, что в настоящее время имеется насущная необходимость в выработке комплекса мер со стороны ФСИН России и Минюста России, направленных на обеспечение полной реализации конституционного права подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей, на квалифицированную юридическую помощь и защиту. Данный вопрос поднимается в связи с поступившими обращениями о наличии адвокатских очередей в следственных изоляторах некоторых регионов, сбоях в работе системы электронной очереди, что снижает доступность и качество оказываемой правовой помощи.
Каждое пятое обращение, адресованное Уполномоченному, содержит претензии к своевременности и качеству оказания медицинской помощи в учреждениях УИС. Несмотря на наличие в системе УИС более 1,2 тыс. медицинских учреждений, обращения о неоказании либо оказании не в полном объеме медицинской помощи поступают практически ежедневно.
Осужденный Р., отбывающий наказание в ФКУ ИК 3 УФСИН России по Республике Башкортостан, неоднократно просил оказать содействие в проведении лечения у окулиста. Лишь после реакции Уполномоченного из прокуратуры Республики Башкортостан поступил ответ, что осужденному была проведена операция. Оказанной медицинской помощью осужденный удовлетворен.
Проводимые по поступившим обращениям проверки свидетельствуют о нехватке в медицинских учреждениях УИС профильных врачей-специалистов, необходимых лекарственных препаратов, несвоевременном направлении осужденных на дополнительное обследование и лечение в учреждения гражданского здравоохранения, неподтверждение ведомственными медицинскими организациями имеющихся диагнозов и степеней утраты трудоспособности (инвалидности).
Анализ обращений показывает, что «хронической» проблемой для мест принудительного содержания является периодическое отсутствие достаточного количества лекарственных препаратов. Подобные обращения поступили в текущем году из: ФКУЗ МСЧ 10 ФСИН России по Мурманской области, ФКУ ИК 17 УФСИН России по Вологодской области, ФКУ КП 44 УФСИН России по Иркутской области, ФКУ ИК 3 Владимирской области, ФКУ СИЗО 2 Астраханской области, ФКУ Т ГУФСИН России по Челябинской области и из других учреждений.
Данная ситуация ежегодно обостряется во втором квартале календарного года, что связано с задержкой в проведении конкурсов на закупку соответствующих препаратов. Уполномоченный рекомендует обратить внимание соответствующих должностных лиц на сроки проведения конкурсов на закупку лекарственных препаратов и их приоритет над остальными конкурсами.
Содержащийся в КБ 2 ФКУЗ МСЧ 23 ФСИН России осужденный Н. обратился в Теучежский районный суд Республики Адыгея с ходатайством об освобождении от наказания в связи с тяжелой болезнью, подпадающей под Перечень заболеваний, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54. 30 августа 2017 г. судом отказано в удовлетворении ходатайства осужденного со ссылкой на наличие у него дисциплинарных взысканий за время отбывания наказания. Уполномоченным было направлено ходатайство в суд апелляционной инстанции о поддержке поданной представителем осужденного апелляционной жалобы и просьбой о скорейшем ее рассмотрении с учетом тяжелого состояния здоровья осужденного. К глубокому сожалению, осужденный не дождался освобождения, 15 сентября 2017 г. он скончался в больнице.
Приведенная статистика повторяется из года в год, но положительных сдвигов не наблюдается, хотя все: осужденные, правозащитники, персонал исправительных колоний и ученые согласны, что порядок освобождения осужденных от отбывания наказания, безусловно, должен рассматриваться через призму гуманизма и быть достаточно полно регламентирован и социально ориентирован.
При решении вопроса об освобождении осужденного в связи с наличием у него тяжелого заболевания суд должен исходить из того, что определяющее значение имеет наличие у него болезни, препятствующей отбыванию наказания.
В целях комплексного подхода к проблеме содержания тяжело больных граждан под стражей Уполномоченным разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статью 81 Уголовного кодекса Российской Федерации», направленный на урегулирование вопроса освобождения от отбывания наказания осужденных в связи с тяжелой болезнью в безусловном порядке. Предложения направлены в Минюст России. Уполномоченный ожидает, что его обсуждение с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями правозащитного сообщества не будет затянуто.
В плане улучшения медицинского обеспечения осужденных заслуживают поддержки реализуемые ФСИН России такие проекты в области медицины, как «Телемедицина», предусматривающие предоставление возможности гражданским врачам дистанционно давать консультации о состоянии здоровья содержащихся в следственных изоляторах г. Москвы граждан, или «Автопоезд здоровья» в ГУФСИН России по Красноярскому краю, состоящий из нескольких автомобилей, оснащенных современным медицинским оборудованием, посещающий отдаленные исправительные учреждения региона. Поиск новых форм оказания медицинской помощи осужденным должен продолжаться.
Более 900 обращений поступило по поводу законности действий и решений должностных лиц учреждений уголовно-исполнительной системы. Осужденные сообщают о необоснованно применяемых в отношении их ограничениях и запретах, а также превышении персоналом своих полномочий. По каждому факту Уполномоченный обращался в ФСИН России и в органы прокуратуры с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры реагирования. В ряде случаев факты нарушений подтверждались.
К Уполномоченному поступило обращение осужденного Л. о воспрепятствовании администрацией ФКУ ИК 9 УФСИН России по Краснодарскому краю в его условно-досрочном освобождении. В адрес Апшеронского районного суда Краснодарского края и прокуратуры Краснодарского края были направлены обращения Уполномоченного. По результатам их рассмотрения прокуратурой Краснодарского края начальнику учреждения внесено представление об устранении нарушений требований ч. 1 ст. 175 УИК РФ, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности, а Апшеронский районный суд, рассмотрев ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания, принял решение о его удовлетворении.
В адрес Уполномоченного от обвиняемых и осужденных поступило 139 обращений в связи с их привлечением к дисциплинарной ответственности. К сожалению, изучение поступивших материалов в ряде случаев свидетельствует об элементарном несоблюдении персоналом УИС порядка привлечения подозреваемого, обвиняемого и осужденного к дисциплинарной ответственности, что, в свою очередь, является либо следствием низкой квалификации персонала, либо умышленным нарушением порядка привлечения осужденного к дисциплинарной ответственности.
По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратура Оренбургской области сообщила о признании незаконными и отмене двух постановлений и. о. начальника ИК 8 УФСИН России по Оренбургской области в виде водворения в ШИЗО на 15 суток осужденного М.
Также органами прокуратуры по обращению Уполномоченного отменены постановление начальника ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ярославской области о применении к обвиняемому К. взыскания в виде водворения в карцер, два постановления начальника ФКУ КП 39 ГУФСИН России по Иркутской области о привлечении осужденного Б. к дисциплинарной ответственности в виде водворения в штрафной изолятор без достаточных для этого правовых оснований.
В целях недопущения фактов необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности подозреваемых и обвиняемых необходима дополнительная регламентация данного вопроса на законодательном уровне. Соответствующий законопроект в настоящее время разработан и, по информации Минюста России, проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами власти.
К Уполномоченному поступило обращение в защиту прав осужденного Л., содержащегося в ФКУ ИК 29 ГУФСИН России по Приморскому краю, с жалобой на незаконное применение к нему физической силы. В связи с обращением Уполномоченного прокуратура Приморского края нашла подтверждение доводам заявителя. По факту избиения осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, начальнику ГУФСИН России по Приморскому краю внесено представление об устранении нарушений закона.
Полагаю, что подобных жалоб от заявителей, доводы которых при проверке находят свое подтверждение, не должно быть вообще.
В целях профилактики случаев необоснованного применения физической силы и специальных средств в учреждениях УИС необходимо повсеместно применять стационарные видеокамеры и видеорегистраторы действий сотрудников, а также увеличить сроки хранения полученной с их использованием информации. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы используются 110 434 стационарные видеокамеры и 15 038 портативных видеорегистраторов. Срок хранения информации, зафиксированной средствами видеонаблюдения, составляет 30 суток.
В интересах обеспечения режима законности в исправительных учреждениях важно продолжить практику увеличения количества видеокамер в местах принудительного содержания и установить повышенные до шести месяцев сроки хранения зафиксированной ими информации.
Уполномоченным отмечается важность обучения членов ОНК в целях повышения эффективности их деятельности, поддерживаются законодательные инициативы, направленные на расширение их компетенции.
В этой связи Уполномоченный и региональные уполномоченные принимают участие в семинарах по вопросам совершенствования работы ОНК. Хочется надеяться на принятие Государственной Думой в 2018 году законопроектов N 949326-6 и N 269379-7, предусматривающих расширение перечня мест принудительного содержания, подлежащих общественному контролю, за счет конвойных помещений судов.
В прошлом году в адрес Уполномоченного поступило 663 обращения по вопросу перевода для дальнейшего отбывания наказания в иное исправительное учреждение, из них 496 касались перевода в исправительное учреждение, расположенное поблизости от места его проживания до осуждения или проживания его родственников.
Так, гражданин Н., осужденный в Самарской области, направлен для отбывания наказания в ФКУ ЛИУ 1 УФСИН России по Алтайскому краю, гражданин И., осужденный в Ставропольском крае, отбывает наказание в Красноярском крае, гражданин Т., осужденный в Хабаровском крае и первоначально отбывавший там наказание, направлен в Республику Карелия. И эти примеры можно продолжить.
По глубокому убеждению Уполномоченного, направление осужденного в исправительное учреждение, расположенное за многие тысячи километров от места проживания родственников, лишает осужденного необходимой моральной поддержки и не способствует его исправлению. К тому же само по себе этапирование осужденного в другие регионы страны является весьма затратным.
К Уполномоченному нередко поступают также просьбы осужденных о переводе в другое исправительное учреждение в связи с опасением за свою жизнь и здоровье.
Уполномоченным рассмотрено обращение осужденного И., отбывающего наказание в ФКУ ИК 2 УФСИН России по Республике Татарстан, на нарушение его права на личную безопасность и оказание на него администрацией учреждения морального и физического воздействия. После обращения Уполномоченного во ФСИН России была проведена проверка, в ходе которой подтвердилось наличие у осужденного И. конфликтной ситуации с другими осужденными, в связи с чем было принято решение о его переводе в другое исправительное учреждение республики.
В настоящее время на рассмотрении в Минюсте России находятся подготовленные Уполномоченным предложения по внесению изменений в статьи 73 и 81 УИК РФ, которые направлены на закрепление правила об отбывании осужденным наказания в регионе своего проживания. Внесение соответствующих изменений в законодательство даст возможность осужденным сохранить социально-полезные связи во время отбывания наказания, будет способствовать улучшению психологического климата в исправительном учреждении и в целом мотивировать осужденных к ресоциализации и правопослушному поведению после освобождения.
Жалобы на порядок и условия трудоустройства осужденных либо на отказ в привлечении их к оплачиваемому труду составляют небольшую часть обращений. Тем не менее проблема существует. Она напрямую связана с возможностью осужденного возместить ущерб по исполнительным листам, удовлетворить потребности в приобретении продуктов питания, печатной продукции, поддерживать телефонную и почтовую связь с родственниками.
По информации ФСИН России, в 2017 году не были трудоустроены по различным причинам почти 60% осужденных. Безусловно, такая ситуация не может быть признана удовлетворительной и свидетельствует о необходимости расширения производств в исправительных учреждениях и вовлечения в трудовой процесс более широкого круга осужденных.
Но важно не просто занять осужденных какой-либо работой. Осужденные обоснованно ставят вопрос о достойной оплате своего труда, об исключении фактов привлечения к работе за пределами установленной законом продолжительности рабочего дня, о создании надлежащих условий труда.
К Уполномоченному поступило обращение осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ОИК 11 ИК 4 ГУФСИН России по Пермскому краю, по вопросу привлечения его к работе в автосервисе без оплаты труда. В адрес прокуратуры Пермского края Уполномоченным было направлено обращение о проведении проверки по данному факту. В ходе проведенной проверки данная информация подтвердилась, в связи с чем прокуратурой в адрес начальника учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. В итоге 6 осужденных, ранее трудившиеся без оплаты труда, приняты на сдельную оплачиваемую работу в автосервисе в качестве подсобных рабочих.
Несмотря на формальное увеличение в 2017 году (на 8,4%) числа осужденных, обученных рабочей профессии в исправительных учреждениях, анализ ситуации с их трудоустройством и профессиональным обучением приводит также к выводу о необходимости более конструктивного подхода к установлению перечня этих специальностей.
К Уполномоченному нередко поступают обращения об оказании помощи осужденным, освобождаемым из исправительных учреждений и не имеющим возможности устроиться в посттюремной жизни, в том числе в связи с отсутствием профессии. В настоящее время осужденный, покидая стены исправительного учреждения, может рассчитывать на билет до дома, сухой паек на время пути, одежду по сезону и сумму в размере 850 рублей. Размер такой помощи является явно недостаточным. Осложняет процесс ресоциализации освобождение осужденных из мест лишения свободы без документов, удостоверяющих личность, отсутствие у них жилья, семьи и работы. Уполномоченный старается поддержать таких лиц в решении их трудных жизненных ситуаций.
К Уполномоченному обратился гражданин К. с просьбой оказать помощь в решении его жилищных проблем в связи с потерей жилья во время отбывания наказания. После ряда отказов государственных учреждений в оказании ему необходимой помощи лишь после обращения сотрудников аппарата Уполномоченного его разместили в ГКУ г. Москвы «Центр социальной адаптации «Люблино» для лиц без определенного места жительства и занятий», где К. обрел кров и ему помогли трудоустроиться.
Уполномоченный обращает внимание Правительства Российской Федерации на необходимость разработки федеральной целевой программы государственной поддержки бывших осужденных, согласно которой на первых порах им предоставлялись бы конкретные меры поддержки, оказывалось содействие в трудоустройстве, предоставлении общежития. В Российской Федерации явно затягивается решение вопроса создания службы пробации.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.